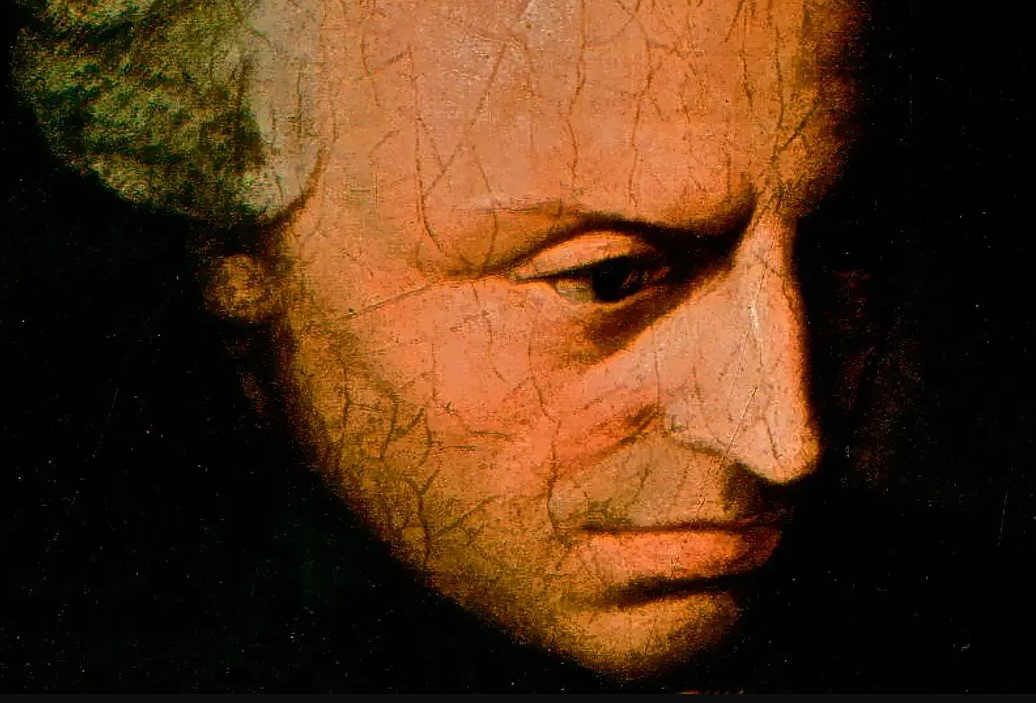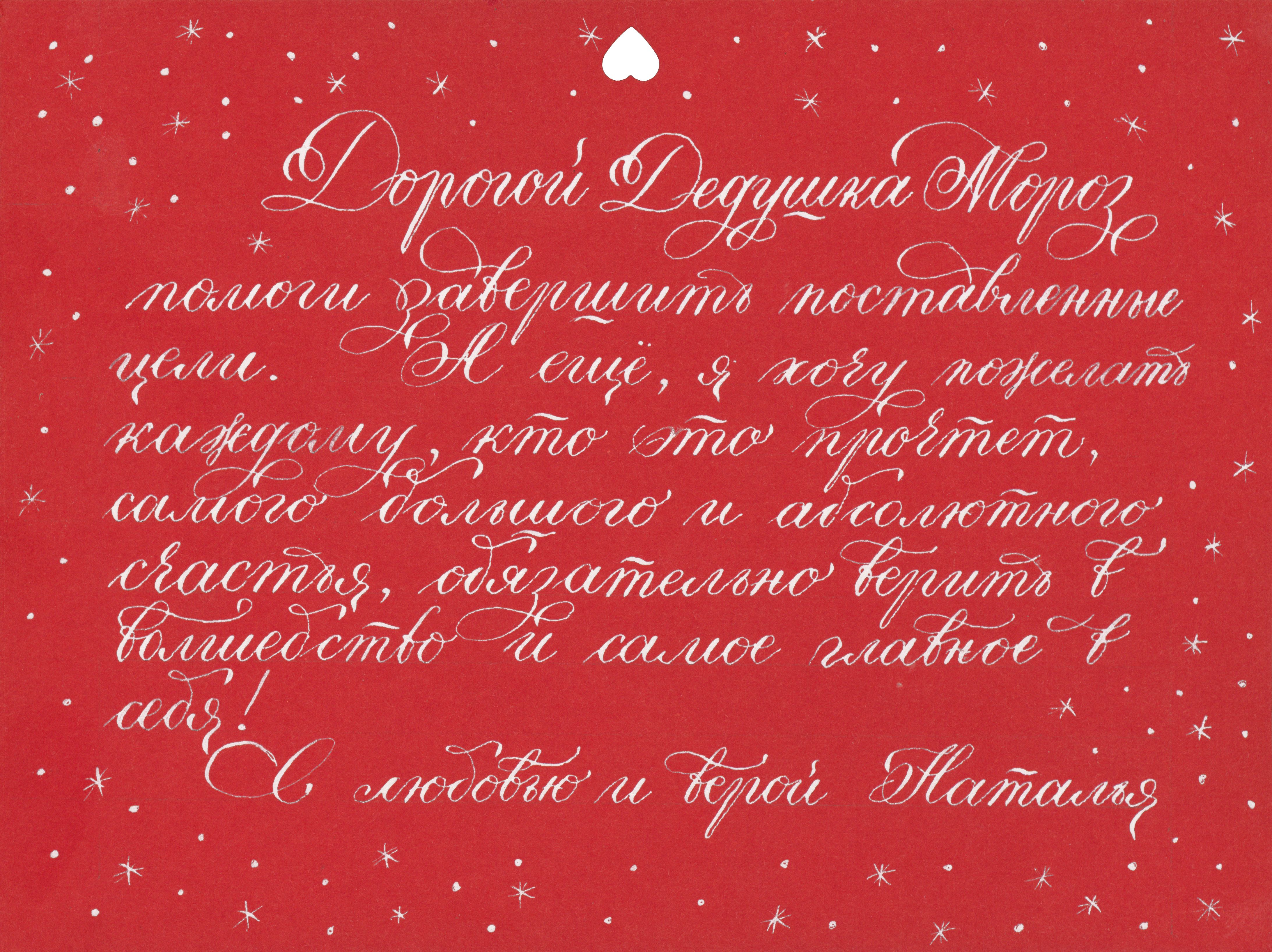Эльгыгытгын: озеро вечно нетающего льда (1)
Места: «Муза дальних странствий»
Смыслы: Via - est vita
Среди геологов до сих пор нет единого мнения о происхождении кратера Озера. Одни считают, что это провалившаяся вулканическая кальдера, другие настаивают на его метеоритном происхождении.
Эльгыгытгын. «Озеро вечно нетающего льда». Так перевел мне его название Виктор Тоно – бригадир оленеводов, первый человек, которого я встретил на Мильгувееме после посещения Озера. Но началось все гораздо раньше.
Часть 1.
В первый раз я услышал об этом легендарном озере после приезда на Чукотку, в Певек в
Место весьма труднодоступное: центральная часть Анадырского хребта, водораздел Тихого и Ледовитого океанов,

Рис.1. Обзорная карта Чукотки.
Попал я на Чукотку сразу после окончания геологического факультета Ленинградского гос. университета. Закончил ЛГУ с красным дипломом, и только поэтому смог попасть сначала в Магадан, а от туда – в Певек: место в «Севвостгеологию» на распределении было одно, а желающих – много, не одному мне хотелось работать в малоисследованных краях больших возможностей и крупных зарплат.
Во время учебы чуть не встретился на татами с нынешним президентом – тренировались в одном зале на третьем этаже исторического факультета, боролись в одной весовой категории, но я поступил в 1976, а он закончил в 1975. Знакомые до сих пор «подкалывают», что с такими анкетными данными стыдно до сих пор быть простым доктором наук, ведущим научным сотрудником и профессором. Впрочем, вернемся в Эльгыгытгыну.
Долгими зимними застольями в компании молодых геологов, после определенной дозы «промилле», начинали люди делиться своими мечтами, и довольно часто в этих мечтах упоминался Эльгыгытгын – как там здорово, и как хочется там побывать, причем от застолья к застолью говорили об этом одни и те же люди. Стало интересно. В отчете С.В.Обручева, который побывал там первым из европейцев, было дано описание. Фраза Обручева о том, что «если ябуду писать роман о Луне, то помещу героев в кратер озера Эльгыгытгын» (цитирую по памяти, и даже не помню – где ее вычитал), добавила желания. В общем, через 5 лет работы в Певеке, отдав дань ялтам и гаграм, в очередной отпуск я не полетел «на материк», а решил остаться на Чукотке и добраться до Озера.
Этому способствовало сразу несколько факторов. Мои друзья геологи-съемщики зиму сидели в Певеке и составляли геологические карты, а летом бегали по тундре и горам, собирая материалы для этих карт. В отпуск, соответственно, они ходили зимой (чукотской зимой – с сентября по май). А я занимался поисками и разведкой россыпей олова, работал на буровой вахтовым методом круглый год, и мог брать отпуск в любое время.
Съемщики ходили в маршруты «по работе», бегать просто так, для собственного удовольствия им в голову не приходило. А у меня работа была «сидячая» – керн с буровой мне привозили в «промывальную», там я его описывал, просматривал промытые шлихи, составлял разрезы и карты россыпей. Для выставления новых буровых точек полагалось использовать трактор или снегоход Буран, самовольные отлучки с буровой далее какого-то там расстояния запрещались техникой безопасности. Когда бурение шло медленно и времени свободного оставалось много, взяв ружьё, я (нарушая всё что только можно) порой уходил на десятки километров чтобы поохотиться или порыбачить. Зимой за день иной раз проходил на лыжах до

Рис.2. Гранитные останцы «кекуры» к северу от Певекского аэропорта.
За такую бесцельную беготню по тундре съемщики презрительно называли меня «туристом», и только друзья, отстаивая моё честное имя, доказывали что «Лаломов – не турист, Лаломов –бродяга». Не удивительно, что когда в Певеке организовалась лыжная туристическая группа «Норд-ост», в нее вошли работники аэропорта, электростанции, строители, а из геологов – только я. В
В
Как говорят на Востоке «прежде чем войти в дом – подумай, как ты из него будешь выходить?». К северу от Озера, примерно в
Впрочем, уверенность в том, что я буду куда-то «выходить», характеризует автора этого рассказа как человека (по крайней мере – в те годы) весьма оптимистичного, если не сказать больше. Маршрут пролегал по совершенно нежилым местам, встреча с чукчами-оленеводами была сомнительной, а, учитывая, что идти приходилось преимущественно по горным долинам где нет оленьих пастбищ, то практически невероятной. Можно было просто подвернуть ногу на камне, заблудиться, нарваться на злого медведя итд.Маршрута моего никто не знал (а знали бы – сделали всё возможное, чтобы не пустить меня на такую афёру), никаких сроков я не назначал, и случись что – спохватились бы не скоро. Может быть через месяц-два послали бы вертолет по моему возможному пути, и в лучшем случае (что весьма мало вероятно), обнаружили бы какие-то недоеденные песцами останки.
Кое-какие меры для успешного возвращения я принял, и то, что я имею возможность рассказать об этом путешествии, говорит о том, что меры были достаточные.Мой отец тоже был геолог, в экспедицию в первый раз я попал в 6 лет, и к этому времени имел более чем двадцатилетний опыт полевой жизни. Проработав 5 лет в тундре, я уже мог обеспечить себе пропитание охотой и рыбалкой, поэтому тащил с собой только патроны, соль, сахар, чай и пару килограммов сухарей. Пару банок тушенки, взятые в качестве НЗ («неприкосновенного запаса»), я съел в первые дни для облегчения рюкзака, поскольку куропатки и зайцы выскакивали прямо из-под ног, за несколько минут можно было вытащить из реки килограммового хариуса, периодически попадались олени, но бить животное из-за куска мяса без крайней необходимости мне не хотелось.
Маленькой компактной палатки у меня не было, поэтому на случай дождя я захватил с собой полиэтиленовый тент. Вместо спального мешка я взял большую, до колен, кухлянку из оленьего меха, постель делал из веток на которые стелил кусок брезента. Если веток было много, то натаскивал их большую кучу, разводи «пионерский» костер, а потом до полночи спал на теплом прогретом галечнике.
Неоднократные встречи с медведями в тундре к моему большому огорчению почти всегда заканчивались одинаково: услышав-увидев-почуствовав человека медведи со всех ног бросались наутек, так что я несколько лет не мог добыть желанного трофея – медвежью шкуру. Только один медведь за эти годы решил не убегать, а уходить от меня гордо и неторопливо. За что и поплатился. Его шкура (
Как бы то ни было, после того случая больше на медведей я специально не охотился, на случай агрессии (а такие случаи с гибелью людей тоже бывали) имел пару специальных «бронебойных» патронов, а чтобы зверь не подкрался ко мне во сне, взял с собой молоденькую дворняжку Кузьку, в задачу которой входило в случае необходимости разбудить меня лаем. Надо сказать, что работу свою Кузька выполняла добросовестно. Как-то ночью (в августе на Чукотке это понятие условное) я проснулся от Кузькиного рычания и лая. Ошалело вскочив и схватив лежащее рядом зараженное пулей ружьё, я увидел удирающего в гору зайца, пытавшегося коварно подкрасться к нам. Больше на нас ночью никто не нападал. Два-три раза издалека видел медведей, но мы с ними благополучно расходились.
Ноги свои берег «пуще глаза», по возможности обходил большие развалы камней, при перехода рек и ручьев заставлял себя не прыгать по камням, а расправлять голенища сапог и находить твердое, устойчивое дно. Реки на Чукотке из-за мерзлоты не роют глубокие русла, а разливаются вширь, и поэтому (если не льют дожди и нет паводка) в верховьях, где я в основном и шел, всегда можно найти широкий перекат и перейти реку вброд.

Рис.3. Собака Кузька на перевале с Лелювеема на Пучевеем.
А вот с картами была проблема. Секретную топокарту (а необходимые среднемасштабные топокарты все были секретные) на период отпуска мне никто бы не дал. Копировальные машины находились в ведении Первого отдела. Поэтому пришлось взять геологическую карту масштаба 1:200 000 (в
В общем, в последних числа июля, уже находясь в отпуске, я с очередной вахтой прилетел вертолетом на буровую (как бы вещи свои забрать), в суматохе пересменки взял на плечи рюкзак, подманил Кузьку специально приготовленным куском колбасы (она жила на буровой вместе со стайкой других щенков, из которых к осени буровики собирались понаделать шапок) и двинулся в сторону ближайшего увала.
В голове боролись две мысли: «Сейчас заметят, что не улетел с вертолетом, поднимут «кипишь», доложат начальству, что, мол, геолог зачем-то в тундру убежал, те начнут меня разыскивать, и мой поход на Эльгыгытгын сорвется».
Другой голос кричал: «Ты с ума сошел, ты куда поперся, вернись назад пока не поздно!»
Но ноги шли вперед, с гребня увала в последний раз окинул взглядом буровой поселок, и стал спускаться в соседний ручей. Кузька, не зная – в какую авантюру её вписали, весело носилась вокруг, поднимая выводки куропаток.
«О русская земле! Уже за шеломянемъ еси!»
- Ответить
Понравился материал?
Поделитесь им также в социальных сетях!
2016-2024
от веб-студии «Инфра»
Регистрационное свидетельство : ПИ №ФС77 - 24144 от 3 мая 2006г.