Моя робинзонада на Аляске. Окончание
Места: Сибирь и Дальний Восток
Смыслы: Природа и люди
«В скалах нашел я тропинку – Куда же теперь? Тропка ушла на вершину, Куда же теперь? Кончился путь, Но другие Открылись пути в синеве»
(подражание японскому танка)«…только б не думать о самом главном, – о самом главном, о самом жутком» М.А. Зенкевич
Существование американских эскимосов разительно отличается от жизни их российских соплеменников, заброшенных судьбой по другую сторону Берингова пролива.
(Окончание. Начало - здесь)
По мере приближения к Ному настроение неизменно улучшалось. Кроме того, я очень люблю дорогу и горные пейзажи. Перед самым океаном приходилось вспоминать об ограничениях скорости, появлялась дорожная техника и, наконец, долгожданные люди. Прежде чем въехать на главную улицу Нома, идущую вдоль океана, я заезжал на единственную на полуострове заправку, и заливал бочки горючим. Наличных у меня вообще не было, и расплачивался я везде исключительно расписками, напоминающими по стилю времена революционных реквизиций. Такой полукоммунистический образ жизни был исключительно приятен. В городе я заезжал на почту, и, наконец, в бескрайний супермаркет, который был еженедельной кульминацией и моим главным развлечением. Для западной цивилизации супермаркеты – это ее суть. Именно в них происходит жизнь страны, именно здесь неприкрыто реализуется то, что понимается под смыслом существования западного человека. Здесь, в прохладе кондиционера, среди дивных запахов и уходящих в перспективу разноцветных стеллажей, можно встретить очень толстых людей в шортах, майках и шлепанцах на босу ногу, с неколебимым чувством собственной значимости, толкающих перед собой тележки полные ненужной еды и бесполезных вещей. Этот супермаркет на краю света отличается от своих близнецов, разбросанных повсюду, разве что обилием эскимосов и отсутствием алкогольной продукции.
Существование американских эскимосов разительно отличается от жизни их российских соплеменников, заброшенных судьбой по другую сторону Берингова пролива. Они получают пенсии от правительства США только за свою национальную принадлежность. Уже одно это, в принципе, позволяет им не работать. Прибавьте сюда бесплатную медицинскую помощь и школы, право охотиться в своих землях и морях, и ренту, которое правительство платит эскимосскому сообществу за добычу полезных ископаемых, и вы получите то самое светлое будущее, о котором грезило все человечество, а досталось оно эскимосам. Надо сказать, что ни благодарности, ни особого счастья они от этого не испытывают. На это стоит обратить внимание тем, кто по-прежнему лелеет планы осчастливить свои народы быстрым материальным благополучием. Этот эксперимент над отдельно взятым народом показывает, что результат, в общем, заранее предсказуем. Блага не заработанные - счастья не приносят. Местные эскимосы совершенно обленились и стали презрительно относиться к белому человеку, который им все позволяет, как позволяют все чужим осиротевшим детям. Пьянство здесь процветает не меньше, чем на российской стороне, несмотря на «полусухой» закон, действующий на севере Аляски.
Белые американцы совсем не рады такому паразитическому положению дел – но таковы условия ими же придуманной игры в демократию. Ведь то же самое происходит во всем западном мире. А может быть демократия - это просто выражение слабости постаревшей цивилизации? Однажды в Барроу я подвез одного такого подвыпившего эскимоса, который голосовал на краю дороги. Узнав, что я русский, он стал что-то бормотать на ломанном английском о дурацкой России, дурацкой Москве и еще о чем-то таком дурацком. Потерпев еще с полмили, я остановился и с удовольствием выставил удивленного таким оборотом дел хама вон из машины. На одной из местных научных конференций мой коллега был свидетелем того, как некий эскимосский «elder”, один из старейшин общины, поучал сидящих перед ним американских биологов, что трансцедентальные знания его народа, получаемые в результате общения шаманов с духами, являются более важным свидетельством состояния морских животных, чем учеты их численности, проводимые методами слежения со спутников и самолетов. И никто из маститых ученых мужей не посмел возразить, словно вернулись недоброй памяти времена «академика» Лысенко. Но гораздо хуже, когда заложниками такой бестолковой политики оказываются ни в чем не повинные животные. Помню, как во время массового осеннего пролета гаги весь берег океана был усеян пустыми гильзами и мертвыми птицами, расстрелянными эскимосами просто потому, что им это разрешено. Убитых птиц никто даже не подбирал. В том же Барроу, где по существующим международным квотам для малых народов ежегодно добывается несколько китов, (фото 8) это давно уже приобрело стандартную форму американского шоу с раздачей кофе и музыкальным сопровождением. Добытого кита вытаскивают на берег, тщательно моют, и разделывают на сувениры, которые затем сбываются японским туристам. Никакой необходимостью поддерживать охотничьи навыки или тем более служить в качестве источника пищи - это не оправдывается. На Чукотке, где в прибрежных национальных поселках так же существуют квоты на отлов китов, это действительно жизненно необходимо. Там выловленный кит – это источник пищи для чукчей и эскимосов не на одну неделю. Уже через час от туши кита на песке не остается ничего, кроме зияющих ребер. Здесь же, большая часть мяса и жира просто выбрасывается на свалку на берег океана, где потом пируют десятки белых и бурых медведей. Отчасти из-за этого медведей расплодилось столько, что они часто забредают на улицы Барроу даже летом. В 1999 мы наблюдали, как белая медведица мирно спала посреди улицы вместе с годовалым медвежонком, а ее покой терпеливо охранялаполицейская машина с мигалкой (но без сирены – чтобы не будить спящего зверя) и направляла всех в объезд. Так что, если какой-нибудь иностранец спросит вас, правда ли, что в России по улицам бродят белые медведи, можете смело отвечать, что такое возможно только в Америке. Но я опять отвлекся.

Фото 8. Тушу свежедобытого гренландского кита на Аляске сперва тщательно моют морской водой. Это происходит не от привычки мыть руки перед едой, а просто служит частью американского шоу.
В супермаркете я тоже вливался почти на час в этот осязаемый животный восторг шопинга, покупал, глазел, и забывал на время о своей болезни одиночества. Но стоило выйти из него на пустынную стоянку – как все возвращалось. Обычно после этого я съедал свой ланч прямо на стоянке, не вылезая из кабины грузовика, а потом наступало свободное время. Нужно было ждать до восьми вечера, чтобы позвонить из здешнего полярного дня на другую сторону земного шара, в Москву, где еще стояла глубокая ночь. Я коротал эти несколько часов ожидания, отправляясь в путешествие по одной из двух возможных дорог вдоль океана – налево в Консил, или направо – в Тэйлор. Обе грунтовки были в неважном состоянии, и доехать до этих поселков я так ни разу не сумел. По дороге в Консил попадались любопытные отмели и затоны, где можно было наблюдать куликов, уток или тундровых лебедей, но в целом было мало интересного. На совершенно пустынной дороге в Тэйлор интересного было еще меньше. Однажды я попал на ней под жуткий ливень, который на глазах размыл насыпь и полотно дороги. Я поехал в объезд, заблудился и выбрался обратно каким-то чудом и благодаря невероятной проходимости полноприводного «Форда».
На обратном пути я часто проезжал поворот в одну укромную долину, о которой рассказывали легенду, будто там выходят горячие воды и даже растут деревья. Деревьев я уже давно к тому времени не видел, к тому же мытье в тазу, словно на картинах французских импрессионистов, тоже несколько приелось. Однако случая (а вернее настроения) туда заглянуть все никак не предоставлялось. Лишь в глубоком августе, в самом конце моего заточения нашелся попутчик в это загадочное место. Однажды на несколько дней приехали трое ребят из университета города Фейрбэнкса, что стоит на легендарном Юконе, для установки полевой метеостанции (слово «Fairbanks” – «красивые берега», американцы в шутку любят произносить как «fearbanks” – «страшные берега»). Одним из них оказался американский человек без всякой ученой степени, но зато обладающий невероятной силой и добротой, с литературным именем Байрон. Никогда не забуду, как он играючи втащил на вершину горы 60-килограмовые панели для солнечных батарей (рис.). Байрон вполне мог стать новым воплощением легенды об одном из героев золотой лихорадки на Аляске - Майка Магони, который, говорят, из дружеской любезности перетащил на своих плечах одному музыканту пианино через Белое ущелье на Клондайке.
Поскольку своей работы у Байрона было немного, все свободное время он проводил со мной, с удовольствием перетаскивая в тундру все то, что я накопил для переброски вертолетом. Когда я восхищался его силой он, улыбаясь, говорил: «Да, силой Бог меня не обидел, да вот ума дал маловато». С Байроном я подружился, и как-то мы с ним все же съездили в загадочную долину.

Фото 9. Тепло горячих ключей позволяет вырасти среди тундры густому ольховому лесу.

10. Во дворе старой православной церкви врос в землю такой же древний трактор.

Фото 11. Август в тундре каждый год заливает склоны самыми яркими красками, которые находятся в палитре природы.
Место оказалось похожим на сказочную землю Санникова. В центре закрытой горной долины выходят горячие подземные воды, с температурой около 35 градусов. Здесь создается свой микроклимат, тепло позволяет вырасти посреди тундры настоящему ольховому лесу (фото 9). Цвели высокотравные луга, жужжали пчелы, пахло среднерусским летом и пришло ощущение подзабытой Родины. Только кольцо гор на горизонте разрушало иллюзию. Вскоре мы нашли старую православную церковь и дом с людьми, которые поселились здесь много поколений назад. Во дворе врос в землю такой же древний трактор (фото 10). В тихом сумраке церкви под ногами скрипели деревянные полы и ветхие лестницы. Женщина вышла во двор с тазом белья и показала нам лесную дорогу в купальню. Купальня оказалась огромной бочкой с горячей водой на краю осокового луга. Мы разделись, с наслаждением залезли в воду и, сидя в бочке, пообедали тем, что прихватили из дома. Небо над головой было безмятежно голубым, ветер шумел листвой единственного, на сотни километров вокруг, настоящего леса, а стена гор создавала почти домашний уют.
Осень в тундре еще скоротечней лета. Собственно, год здесь – это чуть-чуть лета, окруженного сплошной зимой. Изменения происходят с калейдоскопической быстротой. Только что все было бурым и безжизненным, как внезапно зелень свежих листочков затопляет холмы. Не успеешь привыкнуть к зеленым краскам, как все становится снежно-белым. Это зацвел багульник. Но самые невероятные краски приносит с собой август – мой любимый месяц в тундре (фото 11). Низкорослые ивы придают склонам акварельно-желтый тон, а карликовая березка и толокнянка – оранжевый и какой-то артериально-красный. Лучше всех краски тундры поймал поэт-бард Александр Городницкий, который в стихотворении «Тени тундры» увидел ее словно через негатив:
Тень облака летящего над тундрой.
Тень птицы пролетающей над тундрой.
И тень оленя, что бежит по тундре
А рядом с ними собственную тень.
Как-то неожиданно поспевают целые поля голубики и морошки. Не удержавшись, невзначай зачерпнешь на ходу ладонью, как кузовком, горсть кисло-сладких ягод. И весь месяц стоят грибы. В тундре растут почти исключительно подберезовики, но зато нередко в количествах, превышающих всякие разумные пределы.
В отличие от растений, вынужденно принимающих здесь миниатюрные формы, грибы остаются верны своим привычным размерам. Поэтому столь любимый российскими грибниками элемент поиска здесь напрочь отсутствует. Грибы видны издалека, а особо крупные горделиво возвышаютсянад зарослями карликовой березки. Набрать грибов в тундре – это настолько не проблема, что гастрономический и спортивный интерес к ним даже не возникает. Под Воркутой, в Большеземельской тундре был год, когда мы, чертыхаясь, ежедневно очищали свои рабочие площадки от грибов, а на следующий день они зарастали ими снова. Местное население днем и ночью вывозило их из тундры мотоциклами с колясками, но они не кончались.
В августе, наконец-то, приходят настоящие темные ночи. Кто не испытывал бесконечного полярного дня, когда солнце издевательски кружит вдоль горизонта день за днем, «…словно лев с ослепительной красной гривой, мечущийся по кругу арены» (Пабло Неруда), тот не поймет, какую простую радость может принести темнота. С ночами возвращаются звезды и приходят первые заморозки и первые северные сияния. Их латинское название - “Aurora borealis” – буквально означает «северная заря».
Однажды осенью на Восточной Чукотке мне довелось наблюдать удивительное зрелище. Стояло полнолуние. Круглый, как рыбий глаз, фонарь луны заливал слегка колышущуюся под легким ветерком травянистую равнину ровным, ярким светом до самого моря на горизонте. Потом в высоком черном небе медленно проявились волнистые зеленоватые ленты, полотнища и портьеры, уходящие все выше и выше в захватывающий дух циклопический зрительный зал. Они проступали то вспыхивающими, то бледнеющими занавесами, плавно колеблющимися от пробегающего волнами космического сквозняка, словно кто-то невидимый раздувал мехами свет рампы. Завороженный этим внезапно дарованным мне зрелищем, я стоял, забыв обо всем. На эти мировые подмостки оставалось только выйти актерам. И они появились. Откуда-то из-за спины вдруг потянул в сторону американского берега шальной, наверное последний в этом году, косяк канадских журавлей. Журавли летели как во сне, низко стелясь над тундрой правильным клином, едва не задевая землю широкими крыльями. Постепенно они стали подниматься к луне над морем, вдоль дрожащей на воде лунной дорожки, пока их четкие, мерно взмахивающие крыльями, силуэты не показались на фоне огромного лунного диска. Это удивительно напоминало известную мультипликационную заставку к программе «В мире животных». Поэтому, когда в довершение этой сказочной ночи прямо на нашу площадку упал небольшой метеорит – я был уже не способен удивляться и воспринял это как нечто само собой разумеющееся.
А еще тундра – это, конечно, ветер. Он дует здесь всегда: «Ветер, ветер на всем белом свете…». На безлесной равнине ничто не препятствует его ярости и часто ветер вырывает что-нибудь из неосторожных рук и начинает любимую игру в догонялки, подбрасывая этот предмет перед вами, словно фантик перед котенком. Ничто не застраховано от его проказ. Однажды на Чукотке зимний ветер сорвал с вершины сопки многотонную спутниковую тарелку, способную накрыть вездеход, и катал ее по тундре, пока ему не наскучило. Но ветер - и единственное спасение от туч комаров и мошки, из-за которых олени откочевывают летом к северу, в открытую тундру. Благодаря этому в тундре крылатый гнус донимает куда меньше, чем, например,в Смоленской области.
Период великой жары и засухи в июле, когда я переходил реку вброд, сменил сезон дождей и пришла осень. Ночи становились длиннее, а дни - прохладнее. С тоской провожал я взглядом караваны птиц летящих к югу. Но работа была еще не закончена. Временами заезжал уже помянутый золотоискатель Ричард - добрый чудаковатый дылда в засаленной шляпе и митенках. В кабине его скрипучего грузовика всегда лежала двустволка, а рядом сидела собака. Он как мог вносил разнообразие в мое монотонное существование. Ричард жил один-одинешенек где-то у черта на куличках, в избушке у ручья, и мыл золото. Он с удовольствием выпивал целый галлон кофе, посасывал трубку из кукурузного початка и рассказывал мне бесконечные истории. Как и меня, время от времени его охватывала тоска по цивилизации, и тогда он ехал в город за выпивкой и женским обществом. Последствия этого были самые непредсказуемые. Однажды он целую неделю просидел в местной тюрьме «за то, что обидел констебля». В другой раз он явился ко мне среди ночи с приятелем-эскимосом, который только что сбежал с общественных работ. Они выпили целую бутылку кукурузного виски, подрались друг с другом, переломав пару стульев, и уехали совершенно довольные проведенным вечером. Впрочем, и я был на них не в претензии, поскольку к тому времени уже научился ценить любое общество.
Как-то в августе он неожиданно пришел пешком, с ружьем, но без собаки. Ричард долго и витиевато стал просить оказать ему помощь. Он сказал, что понимает, каким важнейшим научным трудом я занят, и что отнимать у меня драгоценные секунды это просто преступление, но если я буду столь необычайно любезен, то..., ну и так далее. Я сказал, что как раз до пятницы совершенно свободен. Оказалось, что его грузовик сломался где-то посреди кочкарника за двадцать миль отсюда и надо помочь его отбуксировать бульдозером. Мы пошли за бульдозером. К моему удивлению им оказалась заросшая травой груда ржавого металлолома, мимо которой я каждый день проезжал по дороге. Но Ричард чудесным образом оживил ее, залив в нее солярку, и мы, немилосердно дымя и грохоча гусеницами, как танк, поехали прямо по кочкам.

Фото 12. Кочки могут стоять так плотно друг к другу, что путнику бывает трудно втиснуть между ними сапог.
Надо сказать, что кочкарная тундра – это, пожалуй, одна из самых неприятных для пешехода поверхностей. На Аляске кочки обычно образуются из плотных как дерево, переплетений пушицы, которые в зрелом возрасте поддаются только действию пилы. Даже тундровые пожары им, в общем, не страшны. Кочки могут стоять так плотно друг к другу, что путнику бывает некуда втиснуть сапог, а высотой они часто по колено взрослому человеку (фото 12). Поэтому ходьба по кочкарнику зачастую превращается в настоящую пытку, словно вы пытаетесь идти по спинам сбившихся в тесную кучу верблюдов. Багульник, голубика, карликовые березки и пушицы так густо разрастаются между кочками, что сверху поверхность кажется предательски ровной. Из средств транспорта она проходима только для гусеничных вездеходов или тракторов. Любопытно, что эти страшные для любой другой тундры виды транспорта (летом, поэтому, запрещенные) - почти не наносят вреда кочкам. Проутюженные ими кочки снова распрямляются и смыкаются позади как волны. А еще кочки – прекрасный изолирующий материал, под которым намного лучше сохраняется характерный для любой тундры слой вечной мерзлоты. Благодаря этому, даже к концу лета под кочкарником можно обнаружить лед на глубине не превышающей штыка лопаты. В жаркую погоду мерзлота активно пользуется местными жителями в качетве естественного холодильника. В центральной Сибири, на Таймыре нам показывали огромных размеров полузаброшенные туннели, прорытые заключенными в мерзлой породе речных обрывов еще в сороковые годы прошлого века. По их дну проложены рельсы и стоят вагонетки. Здесь всегда царит холод, как в морозильной камере: -18 градусов. В свете лампы-переноски стены их сверкают ледяными кристаллами, как пещера Али-бабы, а в боковых карманах под охраной ледяных сталактитов грудами сокровищ лежат промерзшие туши сибирских осетров, гольцов, белорыбицы, сига, омуля и муксуна, наловленные местными рыбаками.
Через час нам с Ричардом надоело перекрикивать друг друга в грохочущей кабине. Тогда мы просто слезли и пошли, беседуя, вслед за трактором, который мерно двигался, никем не управляемый, по бесконечной холмистой равнине. Обратно мы двигались так: впереди медленно тарахтел пустой трактор, в котором сидела только собака (она обнаружилась в найденном грузовике). К трактору был привязан грузовик, в котором сидел я и изо всех сил старался держать руль прямо. Ричард иногда забирался ко мне или шел взглянуть, как там бульдозер, подправляя его в нужную сторону, и тогда собака почему-то переходила ко мне в кабину, усаживалась на сидение и молча смотрела в темнеющую даль. Эта странная процессия из неодушевленных механизмов, одиноких людей и собаки, представляла щемящую аллегорию всей нашей жизни, где каждый по очереди доверял выбор пути другому, не имея ни малейшего представления о конечной цели.
***
Все когда-нибудь кончается. Закончилась и моя одиссея. Не могу сказать, что достойно выдержал испытание одиночеством. Я чувствовал себя, вероятно, тем же, кем чувствует себя спасшийся с необитаемого острова – изгоем, обманутым, кем угодно, только не победителем. Изгоем, потому что вне общества ты не представляешь из себя ничего. Обманутым, поскольку в этом не оказалось ни грана романтики. Мне просто указали мое место, вот и все. Что же касается новых откровений, то лишь одна мысль осталась на дне опустошенного сосуда - простая мысль, с которой я начал это правдивое повествование: человек не может и не должен быть один. Человек рождается и умирает один, но в его силах прожить отрезок между этими моментами с теми, кто ему близок и дорог. Безумно и глупо сознательно сокращать эту и без того ничтожную дистанцию, отвергая величайший дар жизни, но еще глупее идти ее в одиночку, отвергая тем самым второй великий дар – дар любви. И как только это стало мне ясно, я отбросил все сомнения и поменял билет Ном - Анкоридж – Сиэтл – Нью-Йорк – Москва с 11 сентября 2001 года на две недели раньше.
Понравился материал?
Поделитесь им также в социальных сетях!
2016-2024
от веб-студии «Инфра»
Регистрационное свидетельство : ПИ №ФС77 - 24144 от 3 мая 2006г.


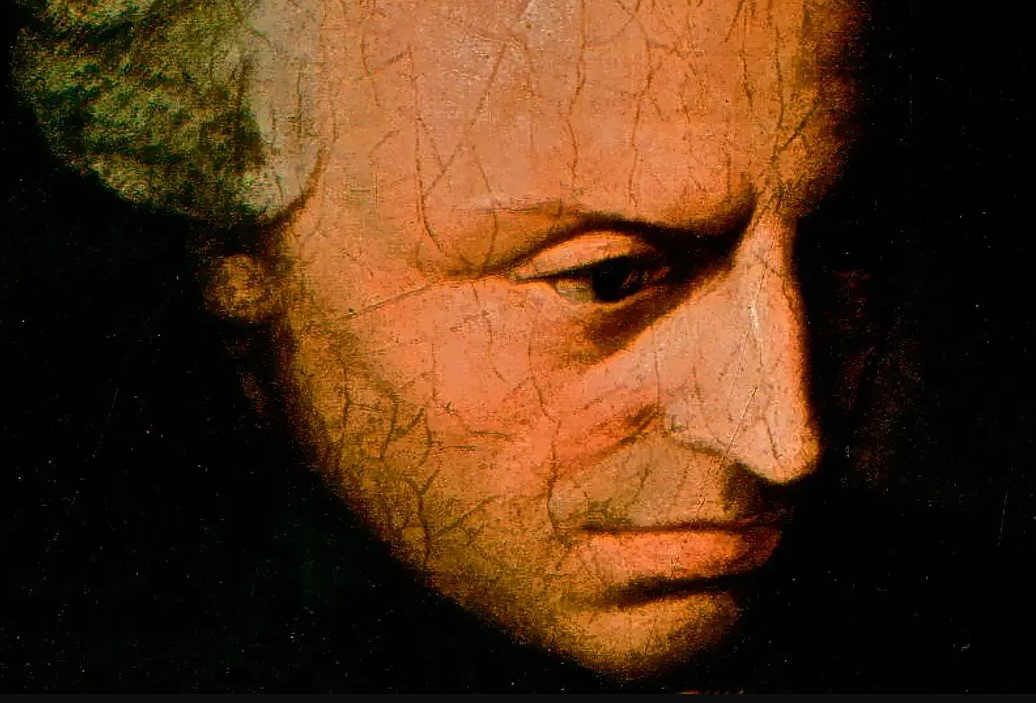
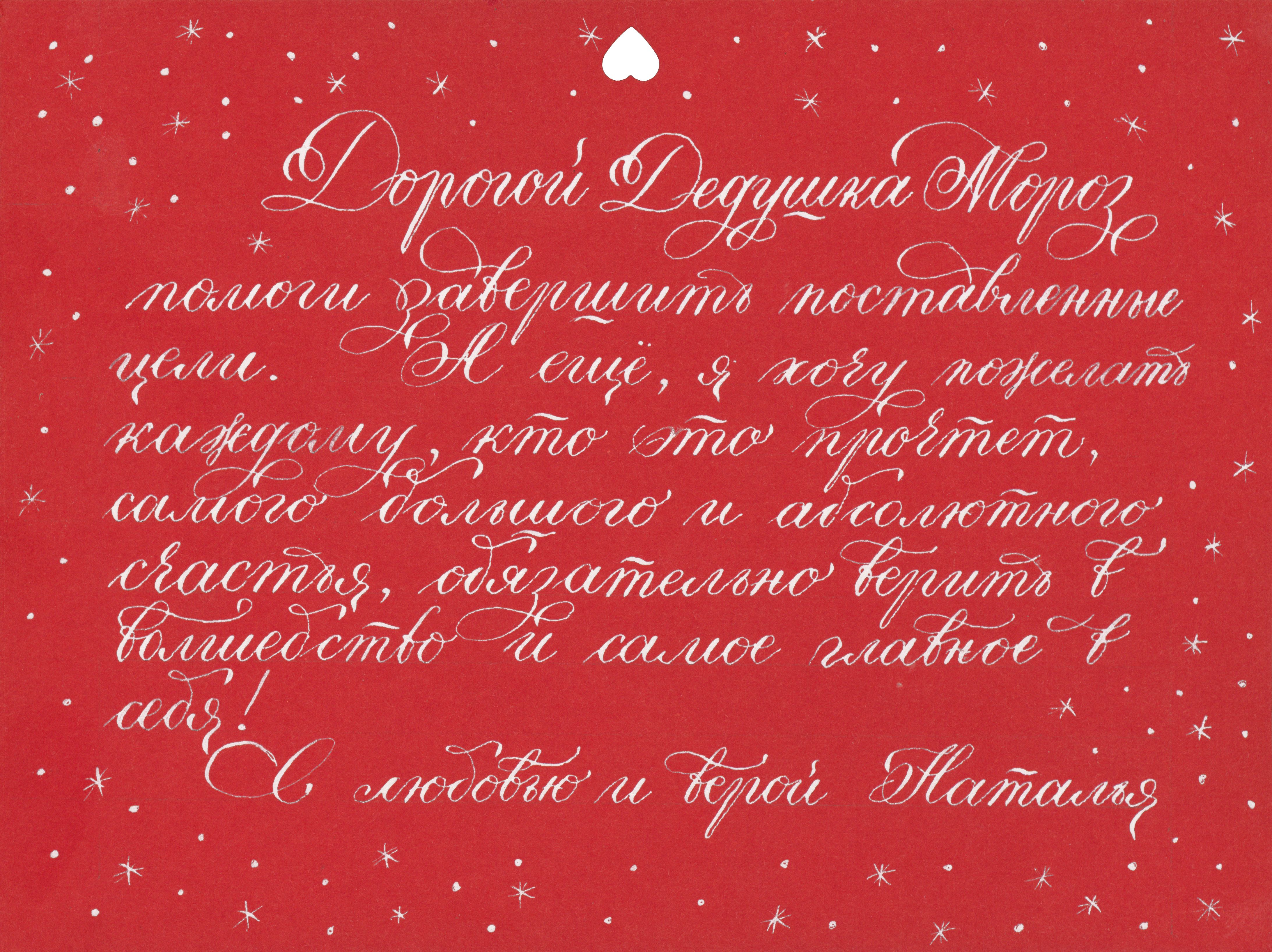
Пока никто не оставлял здесь комментариев.